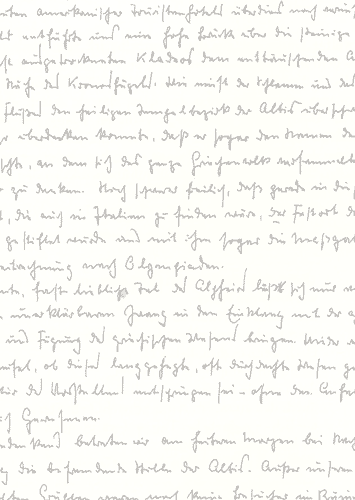страница рукописей Хайдеггера Мартин Хайдеггер РАССКАЗ О ЛЕСЕ ВО ЛЬДУ АДАЛЬБЕРТА ШТИФТЕРА Нижеследующий текст относится к рассказу Штифтера Портфель моего прадеда. Работа над различными редакциями этого произведения занимала поэта вплоть до последних дней болезни и смерти. Относительно избранного нами отрывка Штифтер в конце 1846 года пишет своему издателю Хекенасту : «Думаю, этот рассказ... должен воздействовать глубоко». В предшествующих этому отрывку разделах Штифтер описывает, как доктор вместе со своим слугой Томасом едут в санях, чтобы навестить больных; о том же, чем кончилась эта их поездка в зимний день, писатель рассказывает так: «Когда же мы наконец добрались до Таугрунда и лес, постепенно спускающийся сюда с высоты, все ближе подступал к дороге, мы внезапно услышали в темной роще, что стояла на красиво вздымающейся вверх скале, треск, настолько странный, что ни один из нас во всю свою жизнь не слыхивал ничего подобного — было так, будто пересыпались тысячи, если не миллионы стеклянных палочек, в таком тысячекратном звенящем гомоне уносясь куда-то вдаль. Однако темнозеленая роща по правую руку от нас была все еще далековата, так что мы не могли толком разобраться в таком звучании, и в неподвижном покое, какой был на небе и во всей местности окрест нас, оно показалось нам до чрезвычайности загадочным. Мы проехали еще какое-то расстояние, прежде чем сумели остановить Рыжего, — он был всецело поглощен бегом и наверняка только об одном и мечтал — поскорее очутиться у себя дома в конюшне. Наконец мы встали и тогда услыхали над головой как бы неопределенный шорох — больше же ничего. Однако шорох этот ничуть не походил на тот звенящий гул, который мы только что слышали сквозь цоканье копыт. Мы снова тронулись в путь и все ближе и ближе подъезжали к лесу Таугрунда; наконец мы могли рассмотреть уже и темное отверстие там, где дорога уходила в глубь леса. Хотя час был еще не поздний и серое небо казалось светлым на столько, что вот сейчас бы и проглянуть лучам солнца, однако день был зимний, он склонялся к вечеру, и было пасмурно, так что белоснежные поля перед нами уже начали терять краски, а в роще, казалось, царил мрак. Но так, должно быть, только казалось, оттого что блеск снега резко контрастировал с чернотою стволов, тесно стоявших друг за другом. Когда же мы добрались до того места, где должны были въезжать под своды леса, Томас остановил лошадь. Прямо перед нами стояла тонкая и стройная ель — но она согнулась наподобие обода и образовала нечто вроде арки на нашем пути, — такие делают для вступающих в город императоров. Не описать, какое ледяное изобилие, какое бремя свисало с деревьев. Словно люстры с укрепленными на них в бесчисленном множестве перевернутыми свечами и свечками самых разных размеров стояли хвойные леса. Все свечи отливали серебром, и сами подсвечники были серебряными, и не все из них стояли прямо, некоторые были повернуты в самых разных направлениях. Теперь нам был знаком шум, прежде слышанный нами в воздухе над головой, — вовсе и не был он в воздухе, он был совсем рядом с нами. На всю глубину леса стоял этот непрерывающийся шум, потому что непрестанно ломались и падали на землю ветви и ветки, большие и малые. Тем страшнее было это зрелище, что все окрест стояло в недвижности; среди всего блеска и искрения на деревьях не шевелилось ни веточки, ни единой иголочки, пока наконец по прошествии недолгого времени наш взор не останавливался на очередном согнутом в дугу дереве, которое клонили к земле нависшие на нем ледяные сосульки. Мы все еще ждали, не трогаясь с места, и смотрели, — неизвестно, изумление или страх мешали нам въезжать во всю эту вещь. Наша лошадь, видимо, разделяла подобные же чувства, потому что несчастное животное, осторожно подтягивая ноги, несколькими рывками сумело-таки чуть подать сани назад. Пока же мы продолжали стоять на месте и смотреть, — ни один из нас не проронил ни слова, — мы вдруг снова услышали звук падения, — его за сегодняшний день уже довелось нам слышать дважды. Падению предшествовал оглушительный треск, напоминающий звонкий вскрик, затем следовал сдержанный стон, свист или вой, наконец раздавался тупой, грохочущий звук удара о землю, и могучий ствол дерева лежал на земле. Словно эхо выстрела волной прокатилось по лесу, по густым гасившим его сплетениям ветвей; теперь в воздухе стояло лишь позванивание и позвякивание, как будто кто-то тряс и перемешивал бесконечное множество осколков стекла, — наконец все сделалось как прежде, деревья стояли и высились как всегда, все оставалось недвижным и только тянулся, словно застыв на месте, прежний шорох и шум. Занимательно было наблюдать, как совсем рядом с нами на землю срывалась веточка, или ветвь, или кусок льда, — не видно было, откуда они падают, а только они проносились мимо быстро как молния, слышен был тупой звук падения, но нельзя было уследить, как внезапно взметывалась ввысь освободившаяся от тяжести льда ветвь, и все опять замирало, и вся застылость длилась, как и прежде. Теперь нам стало понятно, что въехать в лес мы не можем. Где-нибудь путь наверняка преграждало всеми своими ветвями упавшее поперек дороги дерево, — перебраться через него мы не смогли бы, не сумели бы и объехать его, потому что деревья растут очень часто, их ветки и иглы сплетаются друг с другом, а снег лежит по самые ветки и сплетения нижнего яруса ветвей, а если бы мы тогда повернули назад, пытаясь ехать тем самым путем, по которому углубились в лес, и если бы тем временем на дорогу легло хоть одно дерево, то мы бы и застряли где-нибудь среди леса. Дождь лил не переставая, мы сами обросли толстым слоем льда, так что не могли и пошевелиться, не ломая наледь, сани, покрытые ледяной глазурью, отяжелели. Рыжий нес свое бремя, — в деревьях же если где и прибывало льда хоть на самую малую унцию, то приходила им пора ломаться — и ветвям и целым могучим стволам, и сосульки, на кончиках острые как колья, готовы были падать наземь, — и без того перед нами лежало множество раскиданных во все стороны льдинок, а пока мы стояли на месте, издали доносился не один тяжелый тупой удар. Оглядываясь в ту сторону, откуда мы пришли, мы не видели ни на полях, ни где-нибудь в целой местности ни одного живого существа. Только я да Томас и Рыжий, — вот и все, кто разгуливал тут на воле. Я сказал Томасу, что надо поворачивать назад. Мы вышли, отрясли сколько могли свою одежду и освободили гриву Рыжего от нависшего на ней льда, о котором нам подумалось тут, что нарастал он теперь куда быстрее, чем поутру, — то ли оттого, что утром мы внимательно, не отрываясь, наблюдали за этим явлением, так что происходящее и могло представиться нам более медленным, чем теперь, ближе к вечеру, когда нам надо было думать о других вещах и когда мы только по прошествии времени замети ли, каким толстым покрылись льдом; то ли действительно стало холоднее, а дождь припустил еще сильнее. Мы этого не знали. Томас развернул Рыжего и сани, и мы как можно быстрее покатили к Эйдунским домам». В последующих абзацах своего повествования Штифтер рассказывает о том, как доктор и слуга оставляют Рыжего с санями в близлежащей харчевне, а потом, вооружившись альпенштоками и крюками, пускаются в пеший путь к дому. «Наконец вырвавшись из леса и оказавшись перед огороженными пастбищами, мы могли бросить взгляд вниз, в долину, где стоял мой дом, — теперь заметно смеркалось, но мы были уже недалеко и не опасались новых неожиданностей. Сквозь равномерно распространившийся повсюду густой белесосерый туман мы могли рассмотреть мой дом, — голубоватый дымок шел от него вверх, прямо как свеча; возможно, то был дым очага, на котором Мария, экономка, приготовляла нам трапезу. Мы снова нацепили крюки и стали медленно спускаться вниз, пока не достигли ровной поверхности, где опять могли снять их. У дверей домов, стоявших поближе к моему, кучками собрались люди, все они всматривались в небо. • Ах, господин доктор, — восклицали они. — Ах, господин доктор, откуда же вы в такой страшный день? • От старухи Дубс и от Эйдунских домов, — отвечал я. — Лошадь с санями я оставил там и через Мейербахские луга и через пастбища вернулся домой, потому что через лес уже нельзя было проехать. Я немножко постоял с людьми. Действительно, день был ужасный. Шум леса доносился со всех сторон даже до этих мест, а среди всего шума то и дело раздавался грохот падающих деревьев, который притом все учащался; даже и в высоко расположенном верхнем лесу, которого и вообще не было видать из-за густого тумана, можно было расслышать треск и падение ломающихся деревьев. Небо оставалось белесым, как и во весь день, а к вечеру свечение его, казалось, только усилилось; воздух был неподвижен, и тонкие струи дождя падали на землю совсем по отвесной линии. • Господь да хранит тех, кто сейчас в поле или того хуже в лесу, — сказал один из стоявших в толпе. • Нет, вот тот-то теперь наверняка спасется, — ответил другой, — потому что никто сегодня не путешествует. Мы с Томасом несли на плечах тяжкий груз, он был почти невыносим, а потому мы распрощались с людьми и направились к дому. На земле вокруг каждого дерева был темный круг, потому что обломилось огромное множество ветвей, словно сбитых крупными градинами. Деревянная решетчатая изгородь, еще не достроенная, — она должна была отделять двор от сада, — стояла вся посеребренная, как перед алтарем в церкви; росшее неподалеку сливовое дерево, посаженное еще стариком Аллербом, как срезало. Сосну же, под которой летними днями я сиживал на скамье, люди пытались защитить от повреждений, сбивая лед палками, куда только могли достать, а когда вершина ее стала заметно накреняться, другой слуга, Каетан, забрался на дерево, осторожно посшибал лед у себя над головой, а потом привязал к верхним ветвям две крепкие пеньковые веревки, концы которых свисали к земле, — за концы он время от времени дергал, сбрасывая вниз намерзавший лед. Люди знали, как любо мне это дерево, да оно и очень красиво, его ветви пышно зеленеют, а потому в них застряла невообразимая масса льда, которого было достаточно для того, чтобы расколоть ствол или порвать ветки. Я прошел в свою комнату, которая была хорошо натоплена, выложил на стол вещи, какие забрал из саней, а потом сбросил с себя одежду, — с нее пришлось сначала сбивать лед, а потом всю развешивать на кухне, потому что все было насквозь пропитано влагой. Переодевшись, я узнал, что Готтлиб отправился в лес, что у Таугрунда, и еще не вернулся, — он ведь знал, что я поеду на санях через Таугрунд. Я велел Каетану съездить за ним, взяв с собой кого-нибудь, если только сыщется охотник сопровождать его, — Да чтобы захватили они с собой фонарь, железа для обуви и палки в руки. Позднее они привезли Готтлиба, и он весь был покрыт панцирными кольцами, совсем как настоящими, потому что он не везде мог стряхивать с себя лед. Я поел от ужина, оставленного для меня. Вокруг совсем уже смеркалось, наступила ночь. Теперь даже и в комнате можно было слышать нестройный гул и грохот, и люди мои, объятые страхом, бродили внизу по дому. Спустя какое-то время ко мне явился Томас, который тоже успел поесть и переодеться, и сказал, что люди из соседних домов собираются вместе в величайшем испуге и недоумении. Я надел теплое пальто из толстой ткани и, опираясь на шток, побрел по льду к соседним домам. Совсем стемнело, только от обледенелой земли исходило слабое и неверное мерцание, отраженный от снега свет. Дождь можно было ощутить лицом, которое окружено было мокрым, и можно было ощутить рукой, которой я переставлял горный шток. С наступлением темноты громыхание усилилось, со всех сторон, кругом, с таких мест, куда уже не проник бы теперь ничей взор, словно доносился шум отдаленных водопадов — треск обламывающихся ветвей был слышен все отчетливее: словно приближались сюда несметные полчища или постепенно разгоралось, без крика и рева, побоище. Подойдя ближе к домам, я увидел людей, но они, сбившись кучками, держались поодаль от домов, чернея на снегу, — только чтоб не стоять близ стен и дверей. • Ах, доктор, помогите, ах, доктор, помогите, — послышались голоса, когда люди, узнав по походке, увидели меня. • Не могу я помочь вам. Господь всемогущ, велики чудеса его, он поможет, он спасет, — сказал я, подходя ближе. Мы постояли вместе, прислушиваясь к звукам. Потом я по разговорам их понял, что они боятся, как бы ночью лед не продавил крыши домов. Я сказал, что деревья, особенно если, как у нас, преобладают хвойные леса, собирают на себе, на каждой веточке, на каждом самом маленьком побеге, на самой маленькой иголочке, несказанно много стекающей вниз воды, которая при той невиданной стуже, что стоит сейчас на дворе, немедленно замерзает и, все время нарастая, оттягивает вниз ветви, срывает иголки, мелкие веточки, большие ветви и наконец гнет и крушит самые высокие деревья; однако, с крыши, на которой снег лежит ровным слоем, вода стекает почти вся без остатка, тем более, что обледенелая корка льда гладью своей лишь способствует этому. Стоит только попробовать сколоть куски льда с крыши, и все увидят, что на косой поверхности крыши ледяная корка способна дорастать лишь до совсем незначительной толщины. Словно бесчисленные руки тянут за волосы деревья, пригибая их к земле, а на крышах домов вся вода скатывается к краям, свисая вниз в виде сосулек, которые либо не опасны, либо же срываются вниз сами и могут быть сбиты с крыш. Своими речами я утешал их, и они поняли суть дела, которое лишь потому сбило их с толку, что они никогда не переживали ничего подобного, по крайней мере в такой мощи и силе. Потом я снова отправился назад, домой. Сам я не был так уж спокоен и внутри себя весь дрожал; ибо что же станется с нами, если дождь не прекращается, громыхание обрушивающихся наземь несчастных растений лишь учащается и на глазах нарастает, как это и происходило именно теперь, достигая самой крайности. Тяжелый гнет уж лег на леса; и достаточно было одного лота, одной четверти лота, всего одной капельки, чтобы повалить дерево. Я зажег в своей комнате свечи и не собирался ложиться спать. Слуга Готтлиб от долгого стояния и ожидания в Таугрунде простудился. Я осмотрел его и послал ему вниз кое-какие снадобья. Через час явился Томас с вестью о том, что люди, собравшись вместе, молятся; гул и громыхание устрашающи. Я отвечал ему, что скоро все переменится, и он отправился восвояси. Я продолжал ходить взад-вперед по комнате, в которую, словно гул волн морских, бьющих о берег, врывался грохочущий шум лесов, а поскольку чуть позже я прикорнул в кожаном спальном кресле, то от усталости все-таки задремал. Когда же я опять пробудился, то услышал над крышей свист и завывание, чего поначалу не мог себе объяснить. Однако, встав и приободрившись, я подошел к окну, открыл одну половину его и понял, что то гудит ветер и что ветер этот самый настоящий ураган. Мне захотелось убедиться в том, по-прежнему ли идет дождь и какой ветер — холодный или теплый. Завернувшись в плащ, я прошел через переднюю комнату и тут увидел, что из каморки Томаса через дверь падает свет. Томас всегда находился рядом со мной, чтобы я в случае необходимости или если что-то со мной стрясется, мог звать его к себе колокольчиком. Я вошел в комнату Томаса и увидел, что он сидит за столом. Он даже и не ложился, потому что, как признался он, очень боялся. Я сказал ему, что сойду вниз, чтобы посмотреть на погоду. Он тотчас же поднялся с места, взял лампу и стал спускаться вниз по лестнице. Когда мы были в сенях, я поставил свой фонарь в нишу возле лестницы, а он поставил туда же свою лампу. Потом я отпер ключом дверь, и, когда мы из холодных коридоров вышли наружу, в лицо нам ударил теплый, мягкий ветер. Необычное состояние вещей, продолжавшееся весь день, разрешилось. Тепло, поступавшее с полудня и до той поры установившееся лишь в верхних слоях, теперь, как то обычно и происходит, опустилось к земле, движение воздуха, которое несомненно совершалось на высоте уже и вчера, распространилось вниз и теперь перешло в настоящую бурю. И на небе, насколько я мог видеть, все стало иначе. Единый серый цвет неба разорвался, потому что местами можно было видеть рассеянные по небу темные и черные пятна. Дождь уже не лил так сильно, зато ударяли в лицо отдельные тяжелые капли воды. Пока мы так стояли, к нам подошло несколько человек, которые, должно быть, находились где-то поблизости. Дело в том, что мой двор не такой, какой обыкновенно бывает, а в ту пору он был еще менее огражден от окружающего мира, чем теперь. Дело в том, что две каменные стены моего дома, образуя прямой угол, служат и двумя сторонами двора. Третья же сторона была снабжена деревянной изгородью, за которой предполагалось разбить сад, куда надо было попадать через деревянную решетчатую дверцу. Четвертая служила въездом, тоже из досок, в то время даже не очень ладно пригнанных друг к другу, и с деревянными решетчатыми воротами, которые обыкновенно были распахнуты настежь. Посреди двора должен был располагаться водопой, который тогда еще и не начинали строить. Так и получалось, что люди без труда проходили ко мне во двор. До этого они стояли на улице, в великом страхе обдумывая состояние вещей. Когда они заметили, что свет, горевший в окнах моей комнаты, исчез, а затем увидели, что он стал показываться в окнах, выходивших на лестницу, то они сообразили, что я скоро выйду во двор, и подошли поближе. Поскольку ко всем бедам прибавилась еще и буря, то они боялись теперь настоящих опустошений и неведомых им ужасов. Я же сказал им, что это хорошо и что самое страшное теперь позади. Следовало ожидать, что стужа, раз она стояла лишь внизу у земли, но не на высоте, скоро пройдет. Коль скоро задул столь теплый ветер, новый лед уже не будет образовываться, да и старого станет меньше. И буря — этого они опасались — тоже не сокрушит деревьев больше, чем упало их от обледенения; потому что когда поднялась буря, то наверняка ветер не был настолько сильным, чтобы прибавить что-либо ощутимое к тяжести, какой и без того были обременены деревья, и сломать их, однако наверняка был достаточно крепким для того, чтобы стряхнуть воду, застрявшую между еловых игл, и сбросить те куски льда, что едва держались на ветвях. Последующие же, более сильные порывы ветра обрушились на уже полегчавшие деревья и могли лишь сбивать с них оставшийся лед. Так что безветрие, когда все могло собираться и нагромождаться втайне, — вот что было страшно, а буря, потрясшая нагроможденное, явилась спасением. И если в е тер даже и сокрушил какое-нибудь дерево, то несомненно взамен того спас не одно, а некоторые стволы, уже доведенные до крайности, и без того упали бы в безветрие, пусть даже чуточку позднее. И не только стряхивал ветер льдинки, но своим теплым дыханием он съедал лед сначала в более нежных тканях, затем и в более жестких, и он не оставлял на самих ветвях образовавшейся вследствие таяния и нападавшей с неба воды, что совершил бы ветер теплый, но малоподвижный. И на деле, хотя из-за свиста бури мы и не могли слышать прежнего шума лесов, однако тяжелые звуки падения раздавались все же значительно реже, хотя мы по временам и слышали их. Спустя недолгое время, в течение которого ветер делался все круче и, как мы полагали, теплее, мы пожелали друг другу доброй ночи и разошлись по домам. Я в своей комнате разделся, улегся в постель и крепко проспал до самого утра, когда уже наступил яркий солнечный день». Теперь поясним свой выбор. В каком смысле этот рассказ о лесе во льду должен, по словам Адальберта Штифтера, «глубоко воздействовать»? Что мог подразумевать поэт под воздействием своего слова? Его рассказ повествует о том, как доктор со своим слугой, навещая больных в зимний день, на обратном пути подъезжают к обледеневшему лесу. Это состояние леса, эту его обледенелость, Штифтер называет просто — «вещь». То, чем воздействует этот рассказ, — покоится ли оно в необычности этой вещи, которая захватывает читателя? Или же воздействующее — в том искусстве, с которым Штифтер описывает эту вещь, давая читателю возможность изумиться ею? Или же воздействие покоится в том и в другом — в необычности вещи и в изумительности ее наглядного изображения? Или же воздействие поэтического слова заключает в себе еще и иной смысл? В тот день и в последовавшую за ним ночь лед покрыл не только леса, но и жилища людей. Поэтому история про обледеневший лес не может обойтись также и без возвращения доктора домой, не может обойтись без разговора его с соседями, которые стоят на улице, не решаясь подойти к своим домам. «Эта история должна воздействовать глубоко», — она могла бы задеть читателя в самой основе его существования. Итак, как же воздействует слово поэта? Оно воздействует, вызывая читателя выйти наружу, а именно в слушание того, что говорится, то есть показывается в слове. Слово воздействует так, что оно призывает и показывает. Оно не производит незначительных воздействий, вроде тех, что происходят в сфере механических процессов, где одно давит и толкает другое. Однако на что же показывает слово истории о покрывшемся льдом лесе? Боясь, что крыши домов будут продавлены ночью накопившимся на них обледенелым снегом, люди покинули свои жилища. Они опасаются за свое жительствование, за свое существование. Доктор говорит с ними. Он рассказывает им о том, как течет, как сочится вода, — она одним способом образует лед в ветвях и веточках деревьев и совсем по-иному на плоских и пологих крышах. Доктор все смотрение и думание своих соседей отсылает к этому просто, но скрыто протекающему процессу. Так доктор отвлекает мысль людей от ужасного шума и грохота, треска и падения на что-то неприметное, что властно правит в тишине и кротости. В своем предисловии к сборнику «Разноцветные камешки», в предисловии, о котором Штифтер говорит — оно «никоим образом не годится для юных слушателей», — он дает нам поразмыслить над следующим: «Дуновение ветра, журчание воды, рост хлебов, волнение моря, зелень полей, блеск небес, мерцание звезд — вот что считаю я великим; надвигающуюся мощную грозу, молнию, рушащую дома, бурю, вздымающие морские валы, огнедышащую гору, землетрясения, погребающие под развалинами целые страны, я не считаю явлениями более великими, даже считаю их менее великими, потому что они — действия более высоких законов. Подобное происходит в отдельных местах, будучи результатом односторонних причин. Сила, которая заставляет подниматься и переливаться через край молоко в горшке бедной женщины, — та самая, которая гонит вверх лаву огнедышащей горы, заставляя ее стекать по склонам гор». На что направляет наши мысли Штифтер? Последуем за ним, сделаем мыслью еще один неприметный шаг вперед, чтобы отчетливо понять действие поэтически творящего слова. Силы и законы, на которые указывает писатель, — сами по себе тоже знаки. Ибо они указывают вовнутрь того совершенно незримого, что однако заведомо и прежде всего определяет все, — этому незримому и обязан соответствовать человек в самой основе существования, если только должно быть так, чтобы он мог жительствовать на этой земле. Поэтически творящее слово указывает в глубь этого основания. Штифтер именует его великим. «Любое величие, — говорит он, — просто и кротко, как и само мироздание» (письмо Хекенасту , июль 1847 г.). В другом же месте у Штифтера значится: «Великое никогда не трубит о себе, оно просто есть и тем воздействует» (письмо от 22 августа 1847г.; см. приложение к письму от 3 февраля 1854 г.). Показывать истинно великое в малом, указывать вовнутрь незримого, притом сквозь само же лежащее на поверхности и повседневное в мире людей, давать услышать нескaзанное в сказанном, так слагать свое глаголание — все это и совершается тем самым, что воздействует в слове поэта Адальберта Штифтера, это и есть воздействующее в нем. Непрестанные усилия, направленные на то, чтобы все показывать именно так, помогают поэту обрести язык, который от произведения к произведению становится все «глубже, кореннее, величественнее, а тогда говорит исключительно чисто, и ясно, и прозрачно по форме» (письмо Хекенасту от 26 февраля 1847 г.). Однако поиски слова, которое позволило бы увидеть в незримости ее именно ту вещь, какую надо показать, — они же порой вынуждают поэта к признаниям в духе следующего, обращенного к издателю: «Еще об одной беде должен я вам поведать — она касается Портфеля. Это безбожно плохая повесть. Книга не нравится мне» (письмо Хекенасту , там же). Последняя фраза подчеркнута; она писалась, когда поэт возобновил работу над рассказом, из которого почерпнули мы историю о покрывшемся льдом лесе. Зато в последней редакции Портфеля Штифтер говорит самым совершенным своим языком; эта редакция не была, однако, доведена до конца. Как часть наследия поэта, она была опубликована лишь спустя почти сто лет после первой редакции. Поэт еще не успел переработать для последней редакции рассказ о покрывшемся льдом лесе. Всему своему творению Портфель моего прадеда Адальберт Штифтер предпослал, в качестве напутствия, слова одного старинного латинского автора:
Dulce est, inter majorum versari habitacula, et veterum dicta factaque recensere memoria. Egesippus. В переводе это означает: «Приятно пребывать среди обыденных вещей предков и поверять слова и дела древних памятливой мыслью». ________________________________
|
|---|
Ма-цзы& A.C.Philosopher: zenflute@yandex.ru